Жанровый инвентарь поэмы А. С. Пушкина
«Кавказский пленник»
Жанровый инвентарь поэмы
А. С. Пушкина «Кавказский пленник»
В. П. Казарин
(г. Симферополь)
Присутствие автора в произведении, его духовная близость с центральным героем — один из законов романтического творчества вообще и романтической поэмы в частности. Как отмечал Б.В.Томашевский, “лирическая система романтической поэмы требовала автопортретного изображения” [12, с. 396]. Принято говорить, что Пушкин в своих южных поэмах нарушает этот закон, что между ним и, например, Пленником есть дистанция, тогда как между Байроном и героями его романтических поэм этой дистанции нет. “Переживания Пленника, — пишет Г.М.Фридлендер, — созвучны автору по настроению; между поэтом и его героем есть большее или меньшее духовное сродство. И все же ни Пленник, ни один из последующих героев южных поэм не являются лирической проекцией авторского я, поэтическим “двойником” поэта в том смысле, в каком являются им Гяур, Корсар или Лара” [13, с. 11].
Разумеется, говорить об “автопортретности” романтического изображения, о проекции авторского “я” можно только метафорически. В конечном счете, мы имеем дело с проекцией на героя идеального представления о характере, самому автору близкого, являющегося порой даже примером для подражания (популярное сегодня понятие — “биография как творчество”), но развитого в произведении до таких пределов и в таких формах, которые в реальности, конечно же, не могут быть достижимы (например, сверхчеловеческий, романтически гипертрофированный демонизм героев Байрона). Недаром Пушкин, на которого обычно ссылаются сторонники тождества Байрона и его героев, говорил, что английский поэт в своих творениях представил нам “призрак” самого себя, что его герои “напоминают” автора и его колоритных предков [10, т. VII, с. 52, 323]**.
Наконец, вспомним возражения самого Байрона против попыток критики отождествить с ним его героев, сделать его “ответственным за их деяния и свойства, как будто последние были моими личными” [1, с. 86]. Словом, следует учитывать достаточную условность сближения романтического автора и его героев, так как, в сущности, речь идет о воплощении в героях авторского понимания жизни и ее законов.
Но в этом смысле Пленник тоже является проекцией авторского “я”. Поэтому кризис жанра романтической поэмы, который налицо в “Кавказском пленнике”, меньше всего связан с нарушением формы “восточных” поэм Байрона. Напротив, автохарактеристики Пушкина говорят о том, что он как раз стремился быть ревностным учеником своего великого учителя. В 1830 г. поэт отметит, что его первая южная поэма “отзывается чтением Байрона, от которого я с ума сходил” (VII, 170).
Вполне традиционно Пушкин подошел и к созданию образа Пленника. По замыслу автора, он именно должен был стать лирической проекцией его собственного “я”. На это поэт прямо указывал в письме В.П.Горчакову: “Характер Пленника неудачен; доказывает это, что я не гожусь в герои романтического стихотворения” (Х, 49).
Следовательно, Пушкин ставил перед собой задачу спроецировать на героя свое авторское представление о современном характере. Более того, он осуществил это намерение по всем законам жанра романтической поэмы, но художественный результат продемонстрировал несоответствие традиционного жанра и нового, небайронического героя, идеал которого уже вынашивал поэт. Как писал В.М.Жирмунский, “образы безымянного кавказского пленника, как и Алеко в “Цыганах”, не были подсказаны русскому поэту английскими образцами, они выросли из общественных условий преддекабристской эпохи и из личного, человеческого опыта самого поэта” [5, с. 11].
Иные общественные условия, иной личный опыт и привели к тому, что герой и жанр вступили в противоречие друг с другом. Мировосприятие поэта уже не укладывалось в рамки романтической поэмы – оно рушило их.
Главная причина конфликта состояла в том, что жанр романтической поэмы художественно ориентирован на оправдание и прославление героя. Такая поэма не допускает пассивности и инертности в герое, так как это противоречит ее жанровой природе [11, с. 11-12]. Пушкин же изначально поставил перед собой задачу изображения современного типического героя, характер которого им самим осознавался как элегический, лишенный деятельного начала: “Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19-го века” (Х, 49).
Исследователи справедливо указывают, что данная задача носила для Пушкина лирический характер: “Живыми выразителями этой разочарованности были некоторые друзья Пушкина; элементы этого раннего разочарования были и у Пушкина: оно было вызвано противоречием между свободолюбивыми стремлениями передовой молодежи и окружающей обстановкой” [6, с. 195; см. об этом подробнее 14, с. 52-53].
На близость такого характера к своему окружению Пушкин сам указывает в переписке. Так, П.А.Вяземскому он пишет: “Видишь ли ты иногда Чаадаева? он вымыл мне голову за пленника, он находит, что он недовольно пресыщенный***; Чаадаев по несчастию знаток по этой части; оживи его прекрасную душу, поэт! ты верно его любишь — я не могу представить себе его иным, что прежде” (Х, 56). Со своей стороны П.А.Вяземский признавал социальную типичность таких героев, как Пленник, подчеркивая, что “подобные лица часто встречаются взору наблюдателя в нынешнем положении общества” [4, с. 77].
Все это позволяет согласиться с Г.М.Фридлендером, заметившим, что герой поэмы “более или менее рядовой современник поэта”, в котором “сквозят” “черты Ленского и Онегина. К нему уже применима отчасти формула “добрый малый, // Как вы да я, как целый свет” [13, с. 11]. Вывод исследователя покоится на авторитете самого Пушкина, который говорил о характере Онегина, что он “сбивается на Кавказского Пленника” (V, 509). Поэт наделяет героя поэмы чертами своего поколения, в том числе, как мы уже говорили, своими чертами. “Несчастия, неизвестные читателю”, в которых Пленник потерял “чувствительность сердца” (Х, 647), в “Посвящении” прямо соотносятся с судьбой автора. В переписке Пушкин особо подчеркивает: в “Кавказском пленнике” — “есть стихи моего сердца” (Х, 648).
Характерно, что, оправдывая те или иные поступки Пленника, Пушкин будет прямо апеллировать к личному опыту, тем самым доказывая, что в основу личности героя положен в значительной степени автобиографический материал. Так, в письме П.А.Вяземскому читаем: “Другим досадно, что пленник не кинулся в реку вытаскивать мою черкешенку — да, сунься-ка; я плавал в кавказских реках, — тут утонешь сам, а ни чорта не сыщешь (выделено Пушкиным. — Авт.) <...>” (Х, 56).
Пушкинский Пленник в рамках романтической поэмы ведет себя не так, как предписано романтическому герою. Последний не знает никаких преград и никакого страха, препятствий для него не существует. Поставив на его место обыкновенного, близкого себе и своему кругу “молодого человека”, Пушкин вступает в противоречие с жанровым каноном. Бытовые мотивировки поведения Пленника рядом с романтической героиней (не “молодой девушкой”, а именно “кавказской девой”) выглядят или прозой (в отрицательном, натуралистическом значении), или насмешкой. Иронический характер объяснений Пушкина показывает, что он склоняется ко второму — “мой пленник умный человек, рассудительный, он не влюблен в черкешенку — он прав, что не утопился” (Х, 56). Но Пушкин при этом совершенно отчетливо осознает, что поведение его героя действительно не удовлетворяет требованиям жанра: “<…> зачем не утопился мой пленник вслед за черкешенкой? как человек — он поступил очень благоразумно, но в герое поэмы не благоразумия требуется” (Х, 49).
“Благоразумие”, бытовая достоверность, “верность красок”, “естественность” — все это противопоказано романтической поэме, в которой действия героя не подлежат проверке критерием жизненного правдоподобия. Например, образ Черкешенки воссоздан в строгом соответствии с каноном, и нас не смущает то, что она так быстро и в совершенстве выучила Пленника своему языку, или то, как она смогла “дрожащей рукой” и опять же скоро перепилить его кандалы. Подобного рода вопросы просто не должны возникать при чтении поэмы, и они не возникают, потому что в целом она чуждается достоверности факта. Но соответственно, и ее главный герой не может руководствоваться “благоразумием”. В противном случае автора ожидает возмущенный хор читателей и критиков. Пушкин это предвидел. В письме Л.С.Пушкину он заблаговременно и пророчески предсказывал: “Надеюсь, что критики не оставят в покое характера Пленника, он для них создан, душа моя <...>” (Х, 48-49). Предсказание полностью сбылось. В 1828 г., в предисловии ко второму изданию поэмы, Пушкин скажет об “общем голосе критиков, справедливо осудивших характер пленника” (IV, 493).
Сюжетная инертность Пленника, как ни странно это может показаться на первый взгляд, непосредственно отражает трагизм социального мышления поэта той поры. Для Пушкина несвобода — реальное, испытанное на личном горьком опыте понятие. Многочисленные попытки друзей сначала спасти его от ссылки, а потом вырвать оттуда — оканчивались ничем. Действительность, существующая вне романтических порывов духа, доказала свою объективность и незыблемость. Поэтому отношение Пленника, отражающего духовный опыт поэта, к оковам иное, нежели у традиционного романтического героя. Он уже не может ими пренебречь, он лишен оптимистической безоблачной веры в преодолимость любого препятствия. Без вмешательства Черкешенки его судьба, вероятно, пленом бы и закончилась.
На жизненную реальность такого исхода Пушкин укажет позднее в “Путешествии в Арзрум”: “Дорога наша сделалась живописна. Горы тянулись над нами. На их вершинах ползали чуть видные стада и казались насекомыми. Мы различили и пастуха, быть может, русского, некогда взятого в плен и состаревшегося в неволе” (VI, 647). Такова действительность. Соответственно, таков и отражающий ее герой. В результате, героическую партию в поэме ведет не Пленник, а Черкешенка. Отражением этого фактического перераспределения ролей было недоумение читателей по поводу того, что поэма названа не по имени подлинной героини. Признавая, что канон романтической поэмы действительно этого требует, Пушкин писал: “Конечно, поэму приличнее было бы назвать Черкешенкой — я об этом не подумал” (Х, 49). Разумеется, это не отменяет того, что для самого поэта героем оставался Пленник, поскольку авторский замысел выходил за рамки романтического канона.
В байронической поэме чувства героя должны иметь свой внешний эквивалент. Если Черкешенка любит героя безнадежно — она бросается в воду, если Пленник горюет о ней — он должен обнаружить это в поступке, по крайней мере, в слове. В противном случае его чувство оказывается под сомнением. Отвечая на подобного рода замечания П. А. Вяземского, Пушкин пишет: “Ты говоришь, душа моя, что он сукин сын за то, что не горюет о черкешенке, но что говорить ему — всё понял он выражает всё; мысль об ней должна была овладеть его душою и соединиться со всеми его мыслями — это разумеется — иначе быть нельзя; не надобно всё высказывать — это есть тайна занимательности (выделено Пушкиным. — Авт.)” (Х, 56).
Пушкин пытается заменить байроническую внешнюю динамику (в данном случае — слово или поступок героя) динамикой внутренней, не событийной, а психологической и интеллектуальной. “Всё понял он” означает, что “мысль” о Черкешенке “овладела душою” героя и “соединилась со всеми его мыслями”, т.е. в нем произошло внутреннее изменение. Движение налицо, но только иного рода, оно “разумеется”, а не событийно обозначается. Правда, Пушкин еще непоследователен: наметив иной характер изображения героя, он не реализует его до конца. Задумав в 1823 г. второе издание поэмы, он признается в письме П.А.Вяземскому: “Теперь я согласен в том, что это место писано слишком в обрез <...>” (Х, 66). Но поэт не собирается заменять психологическую характеристику героя внешней событийной динамикой. Никаких новых поступков или слов Пленника он в текст не вводит. Пушкин предлагает восполнить недостаток “типографически”: стих “Всё понял он. Прощальным взором” — разделить. После первой фразы поставить многоточие, а вторую набрать с новой строки (Х, 66). Это должно создать ощущение паузы — скрытого за многоточием переживания героя. Отказавшись от традиционной динамики романтической поэмы, поэт еще не нашел форм для выражения динамики психологического развития героя.
Избранный Пушкиными герой требовал эпического повествовательного жанра, в котором есть место прозе жизни, ее быту. Эту потребность поэт реализует в будущем. Осознавая ее уже теперь, он пишет: “Характер главного лица <...> приличен более роману, нежели поэме <...>” (Х, 647). Поэтому же он будет затрудняться в определении жанра написанного произведения — “повесть, поэма или что вам угодно” (Х, 647). Или: “Назовите это стихотворение сказкой, повестию, поэмой или вовсе никак не называйте <...>” (Х, 35). Характерно, что “повесть” фигурирует во всех случаях. Издававший поэму Н. И. Гнедич, видимо, ощутил повествовательную природу произведения и назвал ее именно “повестью”. Позже, в 1831 г., Пушкин использует сюжетную интригу поэмы в планах задуманного “Романа на Кавказских водах”, тем самым подтвердив ее повествовательную плодотворность. В планах “Романа” встречаем Пленника, казачку-черкешенку, освобождающую его из плена, и некоторые другие знакомые детали и мотивы (VI, 771).
Отражением переходности пушкинской поэмы был и тот факт, что поэт оставил своего героя безымянным. Некоторые современники в этом тоже видели “непростительную дерзость” (Х, 647). Но герой Пушкина уже не был ни Гяуром, ни Конрадом, хотя он еще не стал вполне Ленским или Онегиным. Обладая типичностью, представляя целое поколение, типом он не стал. Напротив, как отметил Б.В.Томашевский, для поэмы характерна тенденция “освобождения героя от всех черт, которые выходили бы за пределы общих” [12, с. 396]. Обобщенное в Пленнике еще не было помножено на индивидуальное. Но, не обладая законченным характером, он был близок в своих основных чертах многим пушкинским современникам, что и породило своеобразное оправдание автора — “большей части моих читателей никакой нужды нет до имени” (Х, 647). Позднее, в 1830 г., оглядываясь назад с достигнутых реалистических высот, Пушкин подтвердит, что “Кавказский пленник” был шагом в верном направлении, хотя не во всем удавшимся: “Кавказский Пленник” — первый неудачный опыт характера, с которым я насилу сладил <...>” (VII, 170).
Лирической связью с личностью автора отмечен не только образ героя поэмы, но и все элементы ее поэтики. Остановимся на пространных и детальных описаниях Кавказа. Тесная связь этих описаний с личными впечатлениями автора засвидетельствована в переписке поэта. В черновом письме Н.И.Гнедичу от 29 апреля 1822 г. он отмечает, что “описание нравов черкесских” “есть не что иное как географическая статья или отчет путешественника” (Х, 647). Причем дважды в письмах разным корреспондентам Пушкин выразил удовлетворение этими “описаниями”, обнаружив тем самым, что такой достоверный их характер отвечал его творческим исканиям. Сначала в том же письме Н.И.Гнедичу поэт назвал их “самым сносным местом во всей поэме” (Х, 647). Потом в письме В.П.Горчакову за октябрь-ноябрь 1822 г. Пушкин еще раз замечает: “Черкесы, их обычаи и нравы занимают большую и лучшую часть моей повести...” (Х, 50). И если позднее Пушкин будет отзываться об “описаниях” более сдержанно, то потому, что стремительно двигавшегося к реализму поэта перестанет удовлетворять достигнутая в поэме мера достоверности и жизненной полнокровности.
В конце 1825 г. в письме А.А.Бестужеву Пушкин уже категорически заявит о несовершенстве своей поэмы “пред поэзией кавказской природы” (Х, 191). Позднее, уже в 1828 г., в предисловии ко второму изданию поэмы Пушкин подтвердил свой скептицизм, связанный именно с не удовлетворявшей его теперь степенью полноты и точности в “описаниях”: “Сия повесть, снисходительно принятая публикою, обязана своим успехом верному, хотя слегка означенному, изображению Кавказа и горских нравов” (IV, 493). Наконец, в 30-е годы, в “Путешествии в Арзрум” Пушкин, в сущности, повторит эту оценку: “<…> нашел я измаранный список “Кавказского Пленника” и, признаюсь, перечел его с большим удовольствием. Все это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено верно” (VI, 651). В черновике это признание было еще более выразительным: “сам не понимаю, каким образом мог я так верно, хотя и слабо, изобразить нравы и природу, виденные мною издали” [15, с. 1040].
Довольный своими “описаниями” в период работы над “Кавказским пленником”, Пушкин вместе с тем осознает их чужеродность в жанровых рамках традиционной романтической поэмы. В письме Н.И.Гнедичу он говорит, что “описание” “не связано ни с каким происшествием” (X, 647). В письме В.П.Горчакову опять замечает, что “всё это ни с чем не связано и есть истинно нечто добавочное” (Х, 50). Действительно, в отличие от канонической романтической поэмы, в которой описания и пейзажи всегда только функция главного героя, “зеркало” его души, в “Кавказском пленнике” они обретают объективный характер и нуждаются в каком-то ином художественном оправдании. Его содержание Пушкину еще не в полной мере ясно, но факт нарушения поэтической традиции осознается им отчетливо. Поэт связывает это нарушение именно с достоверностью, объективностью своего “географического отчета”: “Местные краски верны, но понравятся ли читателям, избалованным поэтическими панорамами Байрона и Вальтера Скотта, — я боюсь и напомнить об них своими бледными рисунками — сравнение мне будет убийственно” (Х, 647-648), — пишет он в черновом письме Н.И.Гнедичу.
И действительно, романтическая традиция требовала совершенно иного подхода к “описанию”. П.А.Вяземский будет категорически утверждать: “В подражательных творениях искусства чем более обмана, тем более истины” [4, с. 78]. О чужеродности пушкинских описаний будет говорить И.В.Киреевский [7, с. 88].
Все то же стремление к достоверности предопределит новаторский характер не только героя или пейзажа, но и сюжета поэмы. Внутренне соотнося свою поэму с романтическими образцами, Пушкин вынужден констатировать: “Простота плана близко подходит к бедности изобретения <...>” (Х, 647). Фактором, предопределившим эту “простоту”, явилось уже отмечавшееся стремление положить в основу поэмы лично известный автору материал, избегая вымысла: “С вершин заоблачных бесснежного Бешту видел я только в отдаленьи ледяные главы Казбека и Эльбруса. Сцена моей поэмы должна бы находиться на берегах шумного Терека, на границах Грузии, в глухих ущелиях Кавказа — я поставил моего героя в однообразных равнинах, где сам прожил два месяца <...>” (Х, 27).
Пушкин признает, что “легко было бы оживить рассказ происшествиями, которые сами собою истекали бы из предметов” (Х, 647), т.е. канон требовал, чтобы автор, оттолкнувшись от предмета изображения, дал волю своему поэтическому воображению. Поэт набрасывает возможный вариант романтического развития сюжета: “Черкес, пленивший моего русского, мог быть любовником молодой избавительницы моего героя — вот вам и сцены ревности, и отчаянья прерванных свиданий и проч. Мать, отец и брат могли бы иметь каждый свою роль, свой характер — всем этим я пренебрег <...>” (Х, 647).
Пушкин отказывается от такого развития сюжета потому, что он ставит перед собой другую задачу: романтическое развитие сюжета, конечно, сообщило бы ему большую “трогательность” и было бы с традиционной точки зрения художественно закономерным, но поэт, по его собственным словам, стремится совсем к другому — к “естественности” (Х, 647). Разумеется, своя романтическая “естественность” есть и в “трогательном” сюжете, но Пушкина заботит “естественность” факта, жизненная достоверность поступка. Это совершенно новый критерий художественности. Для избранного им в герои “молодого человека”, считает поэт, как раз “очень естественны” потеря “чувствительности сердца”, “бездействие”, “равнодушие к дикой жестокости горцев и к юным прелестям кавказской девы” (Х, 647).
Поэма отразила движение пушкинского гения к реализму, к открытию поэзии действительности. Пушкин еще в начале пути. Поэтому в его произведении романтические традиции так причудливо переплетены с новаторскими тенденциями, разрушая художественное единство целого. Важнейшим качеством пушкинского новаторства было признание объективности мира, не только не подчиняющегося порывам духа, но подчиняющего их себе. Это требовало, в свою очередь, дифференцированного отношения к фактам, событиям действительности, отказа от традиционного огульного романтического отрицания ее. Даже политика самодержавного правительства должна была быть оценена не однозначно, так как в ряде вопросов она сохраняла положительное историческое значение. Положительным значением, например, для Пушкина была отмечена политика России на Кавказе. Характерно, что П.А.Вяземский осудил эпилог “Кавказского пленника” за его, по мнению критика, ложную идею. Он писал по этому поводу: “Мне жаль, что Пушкин окровавил последние стихи своей повести. Что за герой Котляревский, Ермолов? Что тут хорошего, что он Как черная зараза, Губил, ничтожил племена? От такой славы кровь стынет в жилах, и волосы дыбом становятся. Если мы просвещали бы племена, то было бы что воспеть. Поэзия не союзница палачей; политике они могут быть нужны, и тогда суду истории решить, можно ли ее оправдывать или нет; но гимны поэта не должны быть никогда славословием резни. Мне досадно на Пушкина: такой восторг — настоящий анахронизм (выделено Вяземским. — Авт.)” [9, с. 156].
П.А.Вяземский оценивает эпилог пушкинской поэмы с романтических позиций. Для него не вся действительность может стать предметом поэтического изображения. Позиция П.А.Вяземского отражает вольнолюбивые настроения того времени, но именно романтические по своей природе. Критик решительно разделяет сферы поэзии и, например, политики, тем самым ограничивая круг предметов, достойных поэтического изображения. Он неоднократно пытался внушить эти представления Пушкину, убеждая, например, в одном из своих писем поэта в том, что даже поэтическая сатира должна чуждаться резкости, быть “тонкой, легкой и веселой”, то есть — сугубо литературной. Пушкин отвечал ему: “Уголовное обвинение, по твоим словам, выходит из пределов поэзии; я не согласен. Куда не досягает меч законов, туда достает бич сатиры” (Х, 41).
В отличие от Пушкина, П.А.Вяземский полагал, что поэзия руководствуется только высшим разумом, действительность же может быть неразумна – “суду истории решить, можно ли ее оправдывать или нет”. История, оказывается, не творится объективно, а является функцией осознающего себя романтического духа. Закономерно возникает мысль, что есть “правильные” пути исторического развития и пути “неправильные”. “Правильным” в данном конкретном случае был бы не путь кровавого насилия, а путь просвещения: “Если мы просвещали бы племена, то было бы что воспеть”. П.А.Вяземский усматривает в позиции Пушкина “анахронизм”, тем самым обнаруживая, что он соотносит поэму с раннеромантической традицией, в частности, с поэзией крупнейшего предшественника Пушкина — Байрона, которому как раз было свойственно прославление силы и страсти самих по себе, вне зависимости от их нравственного потенциала. “Отсюда, — пишет Г.М.Фридлендер, — мрачный, гибельный и разрушительный характер и собственных их (героев Байрона. — Авт.) страстей, моральное и эстетическое оправдание которых для поэта не в благотворности подобных страстей, но в самой их трагической напряженности, в их огромной, сверхчеловеческой внутренней мощи” [13, с. 9].
П.А.Вяземский полагает, что Пушкин “окровавил” эпилог поэмы в угоду этой традиции. Но у Пушкина как раз нет апологии страсти и энергии так таковых. Для Пушкина кровь и насилие — оборотная сторона исторического прогресса. Недаром поэт в начале эпилога вспоминает времена, когда русские гибли от рук грузин, а потом говорит о гибели “гордых сынов” Кавказа от рук русских. Пафос эпилога состоит в утверждении объективности исторического развития, которое ничто не в силах остановить:
<…> Ни очарованные брони,
Ни горы, ни лихие кони,
Ни дикой вольности любовь!
(IV, 130)
Пушкин считал, что исторически завоевание Кавказа является прогрессивным, так как оно ломало вековые предрассудки более отсталого общества, обеспечивало торговые связи России, создавало для нее выгодное военно-стратегическое положение во враждебном окружении: “Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях, — пишет Пушкин брату по итогам своего пребывания на Кавказе. — Ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением. Дикие черкесы напуганы; древняя дерзость их исчезает. Дороги становятся час от часу безопаснее, многочисленные конвои — излишними. Должно надеяться, что завоеванная сторона, до сих пор не приносившая никакой существенной пользы России, скоро сблизит нас с персиянами безопасною торговлею, не будет нам преградою в будущих войнах — и, может быть, сбудется для нас химерический план Наполеона в рассуждении завоевания Индии” (Х, 17-18).
В этом отношении Пушкин солидаризировался с государственно мыслящими декабристами, в частности, с Пестелем [12, с. 406-408]. Именно эта способность диалектически смотреть на действительность, являющаяся залогом последующего движения Пушкина к реализму, породит историческую концепцию “Медного всадника”, где в Петре выявлен и великий преобразователь-патриот, и деспотический самодержец [3, с. 269; 5, с. 86].
Подведем итоги нашей работы. Преодоление Пушкиным романтических традиций, кризис жанра “байронической поэмы” явились результатом несоответствия между старой формой и проецируемой на героя системой авторских взглядов. Романтический по форме, этот процесс по своим результатам не только не повторял, но отрицал опыт предшественников, так как на героя переносилась совсем иная, в существенных моментах уже не романтическая система идеалов. Это позволяет не согласиться с теми исследователями, которые полагают, что близость Пушкина к своему герою противоречила реалистическим тенденциям [8, с. 219-220].
Мы проследили, как лирическое присутствие в поэме небайронического автора изменило характер не только героя, но и описаний, сюжетных коллизий, исторической перспективы и пр. По справедливому замечанию Д.Д.Благого, “непосредственно-жизненный, притекающий из самой действительности материал раздвигает, а местами и прямо ломает рамки канона романтической поэмы, целиком заполненной личностью героя, субъективным миром его страстей и переживаний и фабульных происшествий, в которых он является основным участником” [2, с. 266]. Все это в совокупности стало началом процесса преодоления, используя слова Пушкина о Байроне, “одностороннего взгляда на мир и природу человечества” (VII, 52).
* Статья написана в 1983 году. Публиковалась: Проблемы жанра и стиля художественного произведения: Межвузовский сборник. – Владивосток: Издательство Дальневостосточного университета, 1988. – С. 118-128, 252; Вопросы русской литературы: Межвузовский научный сборник. – Симферополь. – 1999. – Вып. 4 (61). – С. 4-17; Сайт «Пушкин. Крым» (pushkin.daportal.org). – 15.10.2012 г.
** В дальнейшем ссылки на произведения А. С. Пушкина даются по этому изданию в тексте с указанием римскими цифрами — тома, арабскими — страницы.
*** В оригинале слово “пресыщенный” написано по-французски. Далее все иностранные слова в письмах даются в переводе.
Литература
- Байрон Д.Г. Собр. соч. В 4 т. Т. 3. — М.: Правда, 1981.
- Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина (1813-1826). — М.; Л.: АН СССР, 1950.
- Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина (1826-1830). — М.: Советский писатель, 1967.
- Вяземский П.А. О “Кавказском пленнике”, повести, соч. А.Пушкина // Русская критика XVIII-XIX вв.: Хрестоматия. — М.: Просвещение, 1978.
- Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. — Л.: Наука, 1978.
- История русской литературы. — М.; Л.: АН СССР, 1953. — Т. 6.
- Киреевский И.В. Нечто о характере поэзии Пушкина // Русская критика XVIII-XIX вв.: Хрестоматия. — М.: Просвещение, 1978.
- Коровин В.И. Поэтика романтической поэмы: от “Кавказского пленника” к “Цыганам” // История романтизма в русской литературе. 1790-1825. — М., 1979.
- Переписка А.С.Пушкина. В 2 т. Т. 1.— М.: Художественная литература, 1982.
- Пушкин А.С. Полн. собр. соч. В 10 т. — М.; Л.: Наука, 1949-1951.
- Соколов А.Н. Очерки по истории русской поэмы XVIII и первой половины XIX века. — М.: МГУ, 1955.
- Томашевский Б.В. Пушкин. Т. 1 — М.; Л.: АН СССР, 1956.
- Фридлендер Г.М. О поэмах Пушкина // Петрунина Н.Н., Фридлендер Г.М. Над страницами Пушкина. — Л.: Наука, 1974.
- Фридман Н.В. Романтизм в творчестве А.С.Пушкина. — М.: Просвещение, 1980.
- Пушкин А.С. Полн. собр. соч. В 16 т. Т. 8. — [Л.; М.]: АН СССР, 1940.
вернуться: Это интересно
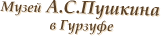
 кроме множества лирических стихов, Пушкин создает в это время так называемые "южные поэмы" - "Кавказский пленник", "Братья разбойники", "Бахчисарайский фонтан", "Цыганы".
кроме множества лирических стихов, Пушкин создает в это время так называемые "южные поэмы" - "Кавказский пленник", "Братья разбойники", "Бахчисарайский фонтан", "Цыганы".

